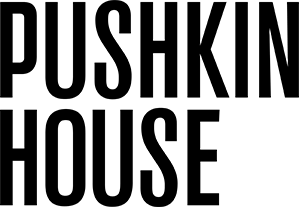Хроники Коронавируса - Часть восьмая: Мой дом, моя Дача
В восьмой части нашей серии, Мария Варденга пишет о новой тенденцией ЗУМ-курсов, и о притяжением дачи
Иногда я думаю, что нынешнюю трансформацию российской реальности лучше всего можно описать через изменение отношения к даче. «Где ты будешь летом?» — «А где теперь можно быть? — Только на даче».
Снять дачу близко от Москвы сегодня практически нереально: дачи разобрали уже в марте. Моя знакомая, креативный продюсер независимого телеканала Дождь после долгих поисков нашла для семьи дом около Тулы, в 300 км от Москвы. Туда она и ездит два раза в неделю на своей машине. Что будет дальше, предпочитает не задумываться: муж у нее успешный дизайнер, но сейчас люди, если и делают ремонт, то своими силами, без дизайнерского проекта. Доходы канала, живущего исключительно на подписку и донаты зрителей резко упали — даже несмотря на то, что телеканал «Дождь» в кризис в полной мере показал преимущество независимого телевещания перед государственным, за неделю организовав квартирный марафон в поддержку врачей. Известные певцы, танцовщики, писатели выступали в поддержку борющихся с эпидемией медиков. В России, при официально низкой общей смертности от этого заболевания уровень смертности среди врачей поистине катастрофический. Врачи гибнут в огромном количестве: не хватает средств индивидуальной защиты, одноразовые костюмы используются как многоразовые. Врачи становятся жертвами, но точные данные скрываются…
стоимость ЗУМ-курса смешная, зато педагогов на курс собралось больше трехсот
Все мои друзья и знакомые сидят по дачам и работают дистанционно. Настроение тревожное. Лучше всего чувствуют себя люди, связанные с образованием — и не просто с репетиторством, а с некоторым уникальным видом образовательных услуг. Подруга Ксения, преподающая французский, жалуется на отток учеников. Но те, кто успел наладить независимые образовательные программы, в карантин практически не пострадали. Мои друзья Ася Штейн и Андрей Десницкий на cвоем портале Vagantes.ru уже который год обучают детей авторским программам по мифологии, литературоведению, библеистике. На ближайшие четыре программы мест нет — раскупили.
Другая моя подруга, Инесса Васильева, во время карантина срочно освоила ЗУМ и предложила всем школьным педагогам скоростной курс по пользованию программы для преподавателей. Стоимость смешная — около тысячи рублей (£11.50). Зато педагогов на курс собралось больше трехсот. Слушатели быстро организовались в профессиональное сообщество под названием «Школа выживания в системе образования» и делятся знаниями на сессиях, проводимых каждые выходные. Темы самые разные: от юридической помощи частному репетитору до новых методик преподавания языка. Кроме того, Иннесса сделала у себя на даче частный развивающий лагерь для подростков. Каждый день — занятия языком, лекции, фильмы, сьемки и игры.
Приятель, занимавшийся культуртреггерскими проектами, такими, как «Велоночь» и «Ночь в музее», начал читать лекции по истории искусств для крупного банка. Пока что банк-единственный заказчик, и перспективы подобных услуг по повышению культурного уровня руководящего звена совершенно не ясны.
Моя жизнь превратилась в ежевечернее сидение в ЗУМе: два занятия со студентами в неделю очно я вынуждена делить на два вечера в онлайне: практика показала, что без личного контакта занятие дольше 2 часов не работает. Хорошо, что я сижу с собаками за городом. Дачи у меня нет — зато есть квартира на Волге, где живет мой папа. К моему изумлению, в этом маленьком городке у каждого второго тоже есть дача — в получасе ходьбы от дома.
мои родители были городскими жителями, деревенский быт их тяготил…
Этот феномен трудно обьяснить. Убеждена, что русское слово «дача» является непереводимым понятием. Для тех, кто вырос в СССР, дача – это куда больше, чем загородный домик. Дача была единственным осязаемым присутствием частной собственности в жизни человека, окном в альтернативную реальность.
До 90-х годов к счастливым обладателям этой альтернативной реальности относились привелигерованные единицы, унаследовавшие кусок «другой жизни» от богатых номенклатурных родственников, партийных деятелей, деятелей искусств или профессоров. Зато в 90-е годы, когда правительство решило спасти голодающее население от вымирания и массово раздало народу по 6 соток земли, дачи появились буквально у всех. Моя семья осталась единственными, у кого этой самой дачи не было. Увы: и мама, работавшая в музее (раздававшем участки под старинным русским городом Вереей), и папа (его институт нарезал коллективу два колхозных поля под Дубной), от предложения категорически отказались: их не увлекала перспектива выходных с посадками на грядках. Они были городскими жителями, деревенский быт их тяготил.
С интересом наблюдаю, что отдых на даче, который в 2000-х стал чем-то вроде симптома профессионального неудачника – успешный человек летом ездил путешествовать, к морю, обыкновенно далекому, за рубеж – возвращает себе право на жизнь.
В карантин все наши потребности ужались до минимума. Был бы участок, чтоб погулять без маски, и сосед, с которым поговорить через забор: дача - единственное пространство незарегулированной коммуникации. Мы привыкаем довольствоваться малым. Что такое человек? Пара белья, два спортивных костюма, кроссовки и куртка. Не считая книжек, интернета, покоя и воли...